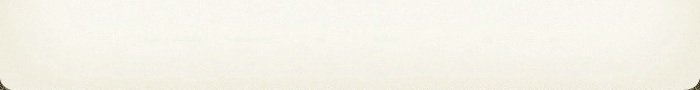Чехов и Тамбовский край
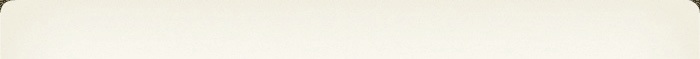


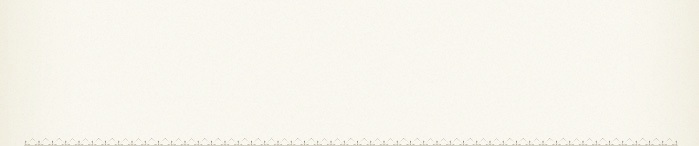



Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943). Композитор, пианист, дирижер. Тесно связан с Тамбовщиной. В с. Знаменское (ныне Петровский р-н) родились и ижили прадед, дед и отец. С 1890 по 1917 гг. Рахманинов почти ежегодно бывал в с. Ивановка (ныне Уваровский р-н). Здесь им написаны 4 фортепьянных концерта, оперы «Скупой рыцарь» и «Франческа да Римини», кантата «Весна», «Литургия Иоанна Златоуста», поэма «Колокола», сонаты – виолончельная и 2 фортепьянных. А также множество прелюдий, этюдов, романсов и др.
Ю. БОРИСОВ:
Глубокая, от юности до конца дней хранившаяся привязанность Рахманинова к Чехову, очарованность его словом и обаянием личности - факт, многократно засвидетельствованный и самим композитором, и современниками-мемуаристами. «К Антону Павловичу Чехову, - вспоминает, например, Е.К. Сомова, - у Сергея Васильевича было совсем особенное, нежно-любовное чувство. Он никогда не уставал слушать рассказы о нем, читал все, что писалось о Чехове, не пропускал ни одной лекции, ни одного доклада о нем и не на шутку сердился, если кто-нибудь позволял себе малейшее недостаточно одобрительное замечание о Чехове». Так было в России, так было и на чужбине годы спустя. В мемуарах, относящихся к 1930-м гг., передана прямая речь Рахманинова: «Что за человек был Чехов! Теперь я читаю его письма. Их шесть томов, я прочел четыре и думаю: «Как ужасно, что осталось только два! Когда они будут прочтены, он умрет, и мое общение с ним кончится». Какой человек!».
Но общение не кончалось и по прочтении последнего эпистолярного тома. Живое присутствие Чехова в пространстве памяти Рахманинова было постоянным, и это присутствие обнаруживалось не столько в развернутых высказываниях композитора, сколько в деталях, спонтанных замечаниях. Показательно, например, что, говоря о Чайковском, Рахманинов тут же вспоминает и Чехова, ставя рядом эти самые дорогие для него имена. В большом интервью 1927 г. он заметил: «Когда я думаю о моей музыкальной карьере, я неизменно вспоминаю о покровительстве Чайковского. Он считал, что у меня есть талант и всячески поощрял меня, помогал моему развитию <...>. Чайковский был такой же деятельной личностью, как и Чехов». И три года спустя тот же ход мысли: «Из всех людей и артистов, с которыми мне довелось встречаться, Чайковский был самым обаятельным. Его душевная тонкость неповторима. Он был скромен, как все действительно великие люди, и прост, как очень немногие. Из всех, кого я знал, только Чехов походил на него». Согретое теплом сердечной рахманиновской интонации, которая слышна даже в переводном тексте, это ставшее традиционным сближение великих имен обретает смысловую свежесть, а за человеческим сходством двух художников открывается эстетическая соприродность их творчества, близко родственная и самому говорящему. Речь здесь может идти о существенных сближениях в художественном мироощущении представителей разных видов искусства (сравним, как по-разному звучат сочетания имен: «Чехов и Рахманинов» - «Чехов и Скрябин») и в поэтике создаваемых ими произведений литературы и музыки. Обратимся к мемуарному свидетельству: «Рахманинов обожал Чехова. Все в нем было Сергею Васильевичу дорого, близко и понятно: его светлая лирика, умный юмор, любовь к родной природе, жизненная правда. И, наконец, что особенно подкупало и пленяло Сергея Васильевича в Чехове, - это изумительная чеховская музыкальность».
Рахманиновское ощущение музыкальности прозы Чехова нашло воплощение в его композициях: в симфонической фантазии «Утес», соч. 7, вдохновленной рассказом «На пути», и романсе «Мы отдохнем», соч. 26 № 3, написанном на слова монолога Сони из пьесы «Дядя Ваня». А это позволяет предполагать, что не только читательская увлеченность и личная симпатия влекли композитора к Чехову, но творчество писателя было вовлечено в процесс становления художественного мира Рахманинова, утверждения его эстетических позиций на пестром фоне противоборствующих тенденций развития русского искусства рубежа веков.
Вместе с тем творческое обращение Рахманинова к чеховским текстам помогает понять глубинную музыкальность художественного мышления писателя, трудно уловимую суть сотворенных им новых форм повествовательной и драматургической прозы, которые родственны «природе музыкальных форм, где тончайшие душевные движения, эмоциональные состояния, находя свое выражение в сложных соотношениях и связях художественных элементов, укладываются одновременно в очень строгие, «рационалистические» композиционные структуры».
Для осмысления нашей темы важны и те параллели, сближения Чехова и Рахманинова, которые возникали в сознании современников. Мемуарная литература хранит немало подобных свидетельств. В психолого-биографическом и историко-культурном плане заслуживает внимания параллелизм историй провала в Петербурге Первой симфонии Рахманинова сквозь призму чеховских ассоциаций, как пишет об этом М.С. Шагинян, вспоминая впечатления от Второго концерта («Повесть в звуках об историческом перепутье, о чеховском безвольном интеллигенте, который тоскует по действию, по определенности и не умеет найти исхода внутренним силам. Впрочем, исход во Втором концерте есть, он в великой сердечной человечности...». И тонко уловленная эмоционально-образная созвучность произведений композитора и писателя, в которой так явственно проступало национально-самобытное жизнечувствование: «...если бы «Чайка» и «Три сестры» родились в сознании наичуткого их мастера, как пение русской женской психеи в цикле мелодий, подобных шубертовским родникам европейского лиризма XIX века, - это мелодии и были бы насыщены тем тоном, что звучит, так несомненно неизбывно русское (именно русское, а не «российское») в мелосе Рахманинова, как родящий стимул его напевности, вклиняющийся в душу. И «Вишневый сад» прозвучал бы тоже рахманиновским тоном...» (Б.В. Асафьев).
Рассматривая творчество Рахманинова в контексте отечественной и мировой музыкальной культуры, мы имеем все основания включить в этот контекст и прозу Чехова, явление художественной словесности, реализовавшее принципы музыкального мировосприятия и формообразования в сфере иного вида искусства и эстетически соотнесенное с музыкой Рахманинова как на уровне творческого процесса композитора, так и на уровне восприятия его произведений современники и потомками.
Борисов, Ю.Н. Рахманинов и Чехов [Текст]: (о музыкальности чеховской прозы) // Творчество С.В. Рахманинова в контексте мировой музыкальной культуры: опыт и новые направления исслед. на рубеже XX-XXI вв: материалы III междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 130-летию С.В. Рахманинова / Музей-усадьба С. Рахманинова. – Тамбов; Ивановка, 2003. – С. 146-149.
С.В. Рахманинов / Тамбовские связи Чехова
С. В. Рахманинов